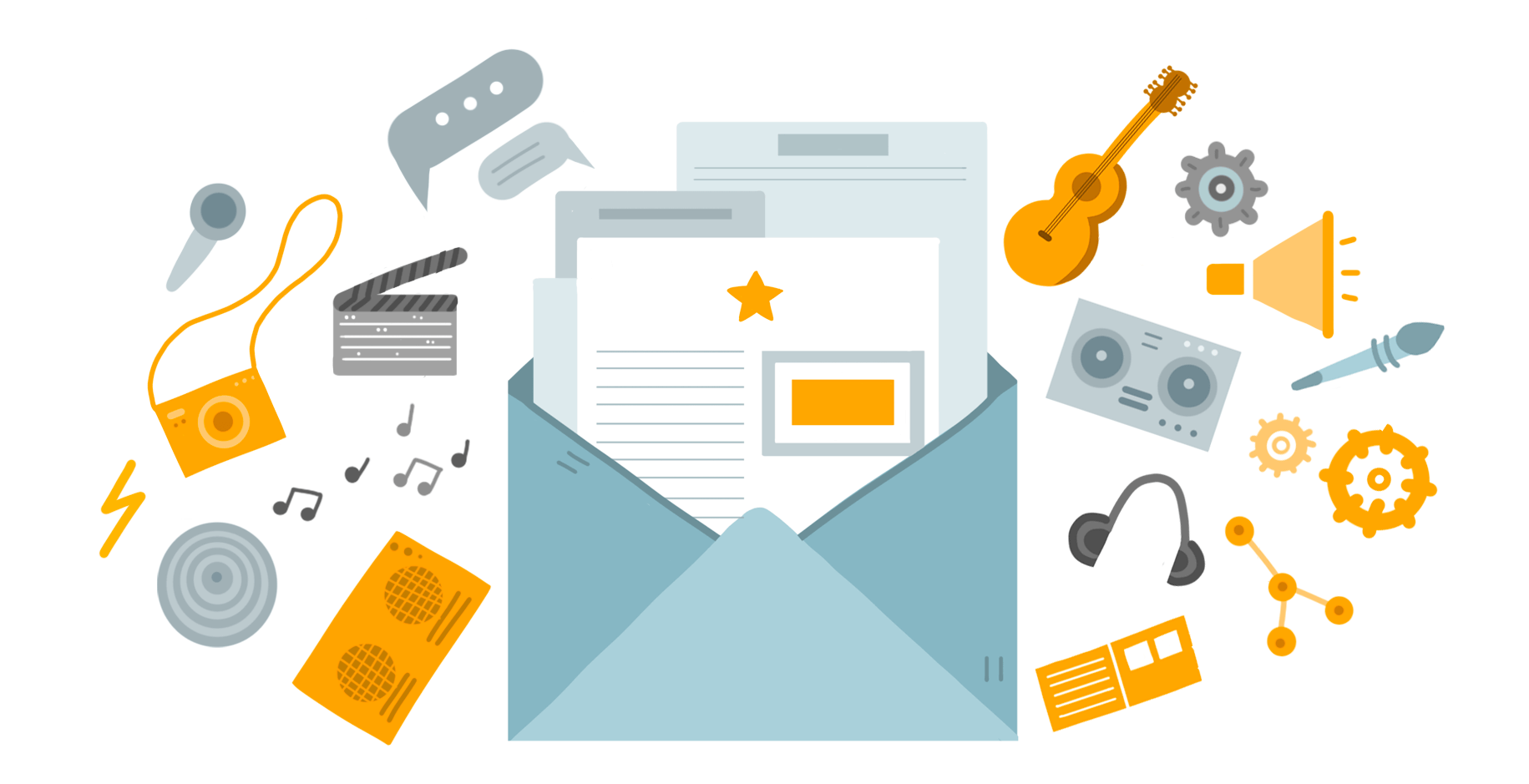Убитым птицам

«Как будто синицы и воробьи вдруг запнулись в полете. Онемели, сдались и беззвучно выпали из облака прямо на карниз, на жухлую траву, вроде потерянных из кармана ключей, носовых платков или губных гармошек» / Иллюстрации: Юлия Важова
«Он мечтал стать проклятым поэтом. Писать тревожные стихи, страдать меланхолией, искать приобщения к тайнам, как Жерар де Нерваль. А ружье было чужой, трудной для него вещью». Главный герой повести «Убитым птицам» — Рыбий глаз — с детства страдает косоглазием: он не может смотреть, как все, в одном направлении и постоянно чувствует внутренние противоречия. В магической прозе Улья Новы возможность видеть правильно тесно связана с умением хорошо стрелять. Филигранно и чутко сказочница-анархистка прослеживает историю маленького человека, который учится быть продолжением оружия и, убив воробья, попадает в плен посттравматического расстройства: он повсюду видит мертвых птиц и «замечает печальную изнанку и тайную кривизну мира».
1
Утром он догадался, почему умирают птицы. Вдруг понял — никакой это не яд, не эпидемия и не радиоактивный могильник, о котором говорят и пишут с весны. Накинув пальто, побежал на улицу, чтобы скорей убедиться. Осматривался по сторонам, прислушивался к сырой тишине парка. Ему было необходимо сейчас, сию минуту увидеть, найти мертвую птицу. Но неожиданно он подметил другое: геометрия проводов над крышами, насекомые рожки трамвая снова утратили контуры, растеклись мокрой акварелью, которую Рыбий глаз ненавидел с детства.
Позабыв о птицах, позабыв обо всем на свете, шел и щурился, почти бежал, на каждом шагу пытаясь переубедить себя. Город и вправду отстранился от него на шаг и теперь мерцал сквозь мутный целлофан. Росчерки линий утратились. Повсюду воцарилась знакомая с детства расплывчатость и размытость. Вспомнилась недавно прочитанная статья «Офтальмология и искусство: симуляция катаракты Моне и болезней сетчатки Дега». Он горько усмехнулся, но все равно всматривался в провода и окна, читал вывески. А потом случилось и вовсе необъяснимое: будто учуяв его сомнения, позвонила окулист — напомнить, что пора бы зайти. Да хоть сегодня. В любое удобное время.
Окулисье королевство — так он придумал в детстве. Строгая страна, где властвуют хитрое Око Лисы и его слуга, иезуит Акула, истязающий материнское сердце жестоким подтверждением близорукости, прогрессирующего косоглазия, ленивого/рабьего/рыбьего глаза.
Он до мелочей помнил сизые тревожные утра сборов в глазную клинику. Самовольными вспышками в память врывались новенький кусачий джемпер, серые шерстяные брючки. Воротник белой рубашки, так старательно наглаженный мамой, словно она надеялась этими усердными движениями утюга задобрить цифры, укрепить глазные мышцы, обмануть неминуемое.
Им предстояла долгая дорога в метро. Бледные лики — в черном квадрате подземного окна: Рыбий глаз и мама, настороженные, предчувствующие кабинеты с пожелтевшими стенами, мутные ряды линз в коричневом чемодане и, конечно, таблицы Сивцева и Головина — с тараканьими бегами букв и мельчающими осколками акульих зубов.
Центром и трагической кульминацией Окулисьего королевства была железная оправа — глазная корона подозреваемого в потере зрения. Тягостные очки для подбора стекол напяливали на лицо осужденного — орудием пыток за преступное чтение в сумерках, за чтение с фонариком под одеялом, за изучение подшивки журналов в полумраке дачного чердака, за круглосуточное безудержное чтение, за тот день, когда он несся на велосипеде, впервые так яростно раздумывая о прочитанном. О подвиге Геракла — победе над стимфалийскими птицами. Которые еще утром были буквами на желтоватой бумаге, а теперь теснились внутри и рвались наружу крикливой воинственной стаей. С крючковатыми клювами. В сверкающих доспехах. Почему-то было неловко от убийства этих птиц с железными перьями, внутри осталась саднящая царапина разногласия, он несся на велосипеде все быстрее, потом летел и со всей силы ударился затылком (хорошо на тропинке оказались спасительные шапки травы).
У кого четыре глаза, тот похож на водолаза! К очкарику одноклассники безжалостны. С каждой новой ошибкой, с каждым следующим стеклом в железной оправе лицо мамы становилось все бледнее и горестнее, напоминая страдальческий лик святой.
Косоглазый — человек с отметиной на лице, «косой заяц». За тридцать лет жизни железная оправа для подбора стекол так и осталась орудием приговора беспорядочно глотающему страницы еретику, книжному пропойце, ночному преступному читателю. Сегодня железные прутья снова стиснули, сдавили его лицо окулисьей хваткой, колодкой прозрения и презрения, тяжкой унизительной пыткой, уготованной близоруким.
Ледяные пальцы врачихи методично опускают перед глазами пластиковые линзы, невесомые облатки причащения к линии, росчерку, контуру. К остроте взгляда. ШБ м н к — к этому дню он знает наизусть все ряды таблицы. Но никогда не решится прикидываться или врать, что видит нижние строки, покорно соглашаясь на любые истязания, за все грехи. За чтение в метро. За чтение лежа. За чтение в ванной. За чтение в темноте. И, конечно, за то маленькое убийство.
Очкарик — еретик, твой лик перечеркнут оправой. Косой заяц, профессор, рыбий глаз. Ты нуждаешься в нервотрепке. Тебе необходим справедливый пинок на перемене и подзатыльник после уроков. Сегодня окулист подтвердила: да, зрение снова упало. Да, в жопе шарик! Да, косоглазие прогрессирует. Ленивый глаз совсем не участвует в процессе наружного зрения, левый глаз смотрит куда-то сам по себе, видит что-то свое. Сегодня ему прописали новые стекла, на диоптрию сильнее. Посоветовали витамины. Посоветовали чаще заглядывать в неопределенность, за горизонт, в никуда, по возможности двумя глазами, по-научному это называется «аккомодация на бесконечность». Чтобы мышцы отдыхали. И поменьше читать. И сократить экранное время. Чтобы оба глаза иногда смотрели в одном направлении. Чтобы оба глаза видели сообща. Очко ему разбили, сказали — это гол!
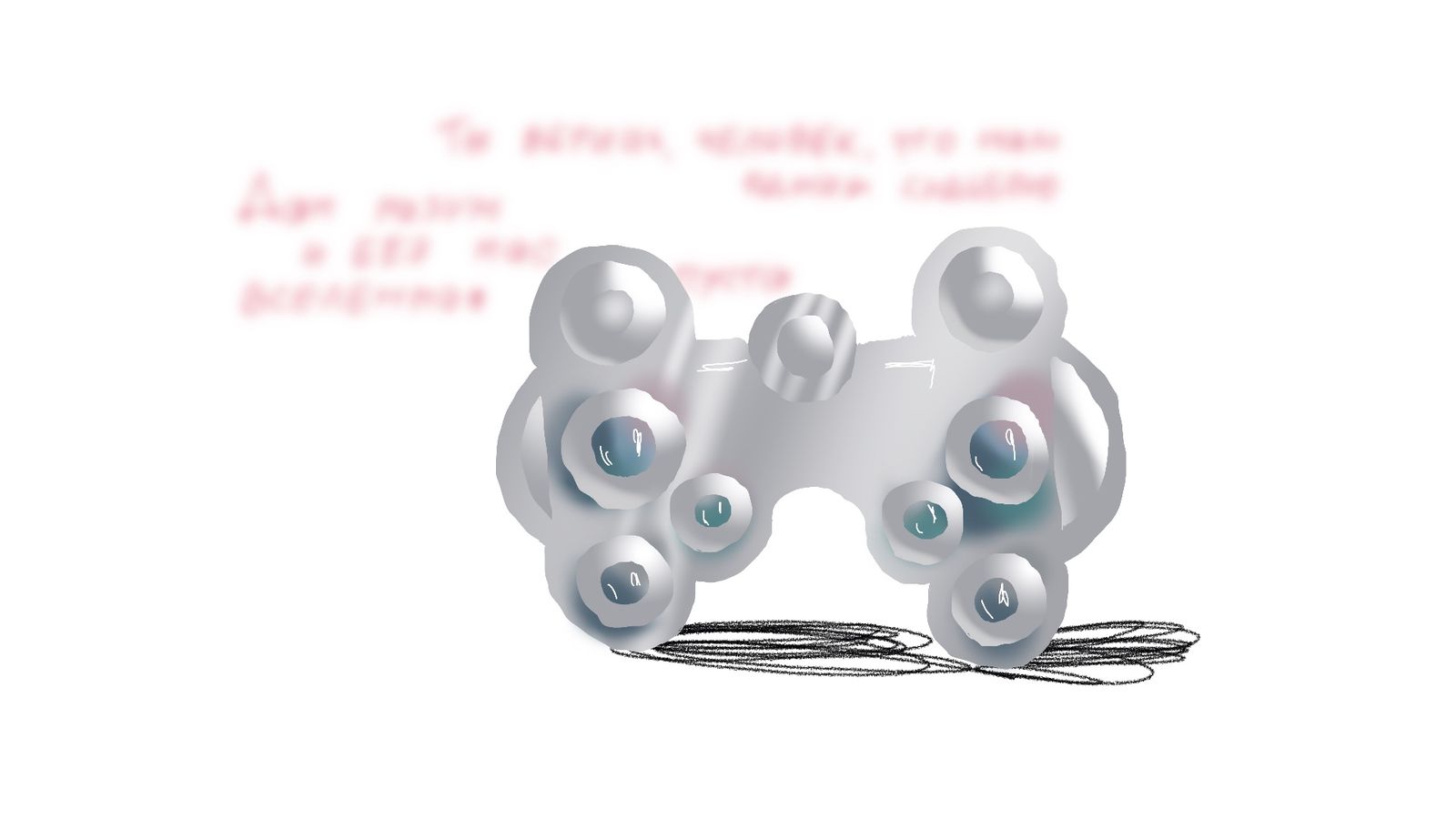
2
Он возвращался домой в синих сумерках. Как всегда, после Окулисьего королевства его мир затянуло грустной пеленой, дымкой уныния, разочарования и горечи. Но потом он почувствовал. Это случилось в нескольких шагах от подъезда. Это снова было похоже на холодную беспокойную судорогу, которая вторгается в грудную клетку из осеннего неба. Чуть сжавшись, он опять заподозрил поблизости мертвую птицу. Вспомнил, для чего выбежал сегодня утром из дома. Снова принялся озираться по сторонам, зажмурив правильный, правдивый, правый глаз. Дал возможность рыбьему, ленивому глазу смотреть вокруг. И скоро его ленивый левый глаз, который всегда видит и чувствует что-то свое, сумел ухватить вдали мокрый лоскутик, сорванный измятый тюльпан. Мертвая синица лежала в стороне от припорошенной снегом тропинки. Лежала на спине, прижав до предела, будто рычажки, проволочные черные лапки к груди. Мертвая, деревянная синица, насквозь прохваченная неподвижностью, невозможностью, немотой. Уже душой где-то далеко, в ирии, вирии, вырии, теплом раю, куда уносятся души стрижей, ласточек и воробьев.
Он подтянул брюки и опустился на колено. Наклонив голову, несколько минут молчал над маленькой птичьей смертью. Несколько минут он был статуей скорби, мраморным ангелом надгробий провожал душу синицы в заоблачную темноту. За это время все его разочарование и раздражение превратились в ярость. Он как никогда ненавидел себя за чертово косоглазие, за очки, а заодно и за рассеянность. Он ненавидел себя за то, что однажды по-дурацки разругался с лучшим другом, слетел с катушек и выкрикнул в телефон, что поэт — это Жерар де Нерваль. Вот кто настоящий поэт, а вовсе не его друг, живущий на бульваре, в необъятной квартире с камином. А вовсе не его друг, который так любит просторные черные свитера и серебряные перстни, а еще — пить виски и часами рассуждать о поэзии и смерти, о поэзии и безумии, о поэзии и черной магии, о том, как здорово было бы найти обходной путь, какой-нибудь хитрый и темный способ, чтобы легко и весело, а главное — безнаказанно написать свою великую книгу.
Летом Рыбий глаз снова перестал стричься, сейчас он был в той части круговорота и суеты, когда спутанные черные кудри могли запросто занавесить лицо до подбородка. Этим черным крылом можно было скрывать косоглазие. Сейчас он стоял на одном колене посреди припорошенного снегом парка, черные кудри прятали половину его лица. Воздух был сырым и тревожным, скатывался холодным комком в горле, но расплакаться не получалось. Рыбий глаз был в ярости, ненавидел себя и даже не подозревал, какой же он красивый сегодня, на фоне черных продрогших деревьев, растопыренных колючих ветвей и темнеющей закатной сини.
До сих пор никто не смог разобраться, что происходит. Так и не сумели найти причину и возможность это остановить. Возле пруда и лесопарка, где жил Рыбий глаз, каждый день находили мертвых птиц. Трупики воробьев подстерегали прохожих под деревьями, на тропинках, на заснеженном крыльце подъезда, на тротуарах, под окнами. Как будто синицы и воробьи вдруг запнулись в полете. Онемели, сдались и беззвучно выпали из облака прямо на карниз, на жухлую траву, вроде потерянных из кармана ключей, носовых платков или губных гармошек.
Соседи, снова собравшись возле подъезда, единогласно признали в этом плохое предзнаменование. Если мертвые птицы каждый день выпадают из неба, тут, конечно, предостережение, потому что с помощью птиц всегда сообщается что-нибудь ужасное и роковое. Это какая-то катастрофа, черная карта, злая судьба. Где-где, в книгах о таком написано и в газетах. Тем не менее радиоактивный могильник соседи никогда не рассматривали в качестве одной из возможных причин гибели птиц. В округе негласным общественным решением было принято считать похороненные невдалеке останки завода за нечто несуществующее на самом деле, вроде детских страшилок и подростковых выдумок.
А вот электрик, второй день недовольно пыхтевший вокруг счетчиков, думал в другом направлении. И он заявил Рыбьему глазу, когда они снова столкнулись: в этом старом доме, что пронизан хрипами, будто престарелый курильщик, развелись крысы. И соседние дряхлые дома тоже кишат крысами и тараканами. По версии электрика, летом администрация выписала для борьбы с грызунами и вредителями какой-то яд, толком не прошедший испытания. Но указание-то поступило. Бумага с печатью была. Вот дворники и разбросали отраву не только в подвалах, но и по окрестным крышам и чердакам. Сделали наспех. Подумали не головой. И вот получилось.
На днях соседка шептала, будто молитву, в лифте, похожем на коробку из-под обуви, которую она заслоняла полностью: слухи о какой-то там отраве распространяют умышленно, чтобы отвлечь людей от несомненной причины — в пригороде свирепствует птичий вирус, никто ничего не говорит, потому что пока ничего толком не знают. Вирус уже начали изучать. Нынешний штамм смертелен для птиц. А завтра он может и на людей перекинуться. Рыбий глаз каждое утро просматривал новости, но пока не встретил ничего, никаких сообщений — о мертвых птицах молчали.

3
Перед сном вспомнилось: однажды отец положил ему на ладонь пульку духового ружья. Маленькую, беспечную, будто смятую из фольги новогодней шоколадки. Невесомая пулька безобидно лежала на ладони и казалась похожей на деталь радиоприемника или бабушкиных настенных часов.
Его зрение в тот год сильно упало. Так сильно, что Окулисий приговор был подписан, полагалось носить очки. Мама сама выбрала и купила ему невесомую серебряную оправу. Мама каждый день понемногу убеждала, нашептывала и умоляла, что очки ему очень идут, что в очках у него такой аккуратный нос и вдумчивое лицо.
Иногда Рыбий глаз украдкой надевал их и подолгу стоял перед зеркалом, пытаясь смириться. Под прикрытием оправы косоглазие становилось почти незаметным, так он убеждал себя, почти убедил. Только вот в этих чертовых очках он казался поломанным и угловатым. Каким-то неумелым и нерифмованным. Очки все меняли до неузнаваемости изнутри и снаружи. Они давили на переносицу, от них болела башка и мутнело на сердце. Поэтому Рыбий глаз решил до поры до времени скрывать очки в потайном кармане школьного рюкзака, чтобы никто в классе и во дворе не догадался.
Как назло, в эту трудную оптическую осень начались уроки военной подготовки. Серые сорок пять минут тянулись суровой боевой вечностью. Военную подготовку вели молчаливые мужчины в форме, упитанные, неподвижные, каждый из них был немного похож на тесный невеселый шкаф. Практические занятия по военной подготовке проходили по субботам, весь класс тихим строем маршировал в школьный подвал. Там, в черном зале без окон, шестиклассники палили по мишеням. Но Рыбий глаз даже здесь предпочел скрывать очки, чтобы никто не узнал об их существовании. Стрелял, как придется, в туман и растекающуюся акварель близорукости. В светлые пятна Моне, в мерцающий сумрак Дега.
В мае оказалось, что стреляет он не только хуже всех в классе. Но и хуже всех в параллели. Перед летними каникулами отца вызвали в школу. Отец сидел в кабинете завуча, на громоздком школьном стуле, и некоторое время тяжело молчал с тремя военными, от которых пахло горечью перронов. Военные дали приказ, потребовали вмешаться, чтобы отец натренировал своего мазилу за лето, взял с собой в тир, что ли, приучил к стрельбе. Военные пригрозили: в сентябре соберут педкомиссию, предстоит контрольная стрельба по мишеням. После этого отец стал устраивать на даче расстрел ржавых консервных банок, урожайно разбросанных на берегах реки. Скоро Рыбий глаз мог подстрелить ржавые банки с любого расстояния. Кажется, он мог бы палить по ним и ранить любую вообще вслепую.
В то утро они решили сбегать к реке до завтрака. Отец незаметно собрался: резиновые сапоги, охотничьи штаны защитного цвета, растянутый «хемингуэевский» свитер. Рыбий глаз, скрючившись, зашнуровывал кроссовки, а отец ждал его на крыльце, исподлобья наблюдая стайку воробьев, чирикающих на проводе. Несколько неугомонных птиц из шумной утренней банды, которая всегда мешала спать многоголосым предрассветным щебетом, нарастающим ликованием нового дня. В то утро отец вдруг решительно вскинул ружье, секунду-другую прицеливался и потом выстрелил. Заставил вздрогнуть все окрестные крыши и яблони. Маленькая вертлявая птичка черной беспомощной запятой упала с провода в заросли крапивы. Это произошло мгновенно. Выстрел. Птичка камнем падает вниз, будто ее никогда и не было. Будто на ее месте всегда была пустота, клочок сочного неба, нарастающее сияние дня. Рыбий глаз наблюдал все это, не в силах пошевелиться. Он не успел ничего понять, потому что отец с наигранной или с настоящей суровостью протянул, толкнул ему ружье.
В сентябре ему предстояла контрольная стрельба. Военные пригрозили: если не покажет результатов, останется на второй год. Поэтому Рыбий глаз послушно взял у отца ружье, сразу почувствовав, что по ладоням бежит холодная тяжесть. Он мечтал стать проклятым поэтом. Писать тревожные стихи, страдать меланхолией, искать приобщения к тайнам, как Жерар де Нерваль. А ружье было чужой, трудной для него вещью. Пулька в кулачке быстро согрелась испариной руки. Пулька вобрала его пульс, пот ладони и запах бабушкиного мыла. Сморщившись, Рыбий глаз кое-как помог себе коленом, плечом, локтями, подбородком, лишь бы ружье разломилось пополам. Теплая пулька упрямой серебряной точкой легла в положенное ей углубление, названия которому он не запомнил. Беспомощными локтями, коленями, пальцами исхитрился выпрямить ружье обратно. Громко хрустнув, оно слилось в единый непреклонный механизм.
Тогда Рыбий глаз перевел дух, поправил дурацкие, съехавшие на кончик носа очки. Прищурился, вспомнил, как после уроков стрельбы военные дразнили его куриной слепотой. Вспомнил, как первый раз надел очки в классе. И потом на перемене одноклассники дразнили его водолазом. Выкрикивали вослед: «В жопе шарик!» Он снова рассердился и разрумянился от обиды. Прищурился, решительно выбрал на проводе вертлявую точку, составил темный и теплый комок воробья с выемкой и углублением, названий которых он не выучил, не помнил, что там объясняли на военной подготовке. Он еще сильнее прищурился, соединил воробья, выемку и углубление ружья в общий ряд, в нерасторжимый механизм прицела. Зажмурил ленивый левый глаз. Весь сморщился, стал холодным железом. Напрягся, стал продолжением оружия. И вдруг неожиданно выстрелил. Бабахнул на всю округу. Да так, что все аж вздрогнуло и слегка накренилось. В ту же секунду птичка-мишень черной точкой рухнула с провода в заросли крапивы.
Ничего не изменилось в мире. Светило точно такое же, пушное утреннее солнце. Над жестяными крышами дач ползли и ковыляли прохладные облака. Отец одобрительно кивнул и молча забрал у него ружье. Через минуту они уже шли к реке, по влажной сверкающей траве щебечущего июльского утра — вдвоем, в ногу, весело напевая. О контрольной стрельбе осенью все забыли. А теперь, годы и годы спустя, вокруг его дома падают из неба мертвые птицы. Или это его левый, ленивый глаз видит мертвых птиц, замечает печальную изнанку и тайную кривизну мира.
Сегодня утром он подумал, что все когда-либо подстреленные птицы падают и лежат вокруг его дома на мерзлой траве. Чтобы он опустился на колено и на некоторое время стал для них ангелом скорби. Чтобы он снова вспышкой пережил тот далекий выстрел отца, а потом свой собственный безжалостный выстрел. Чтобы он вспомнил последнюю ссору с лучшим другом. И вдруг почувствовал себя не близоруким и косоглазым, а проклятым поэтом. Как Жерар де Нерваль. Или как кто-то совсем новый, другой. И тогда вдруг стало красиво. Он узнал себя неприкаянным в шумном, многолюдном городе. Мертвые птицы падали из неба вокруг его дома, каждый раз приобщая к тайнам: раскаянью, печали и музыке. Он не знал настоящей причины, поэтому придумал себе такое вот объяснение.