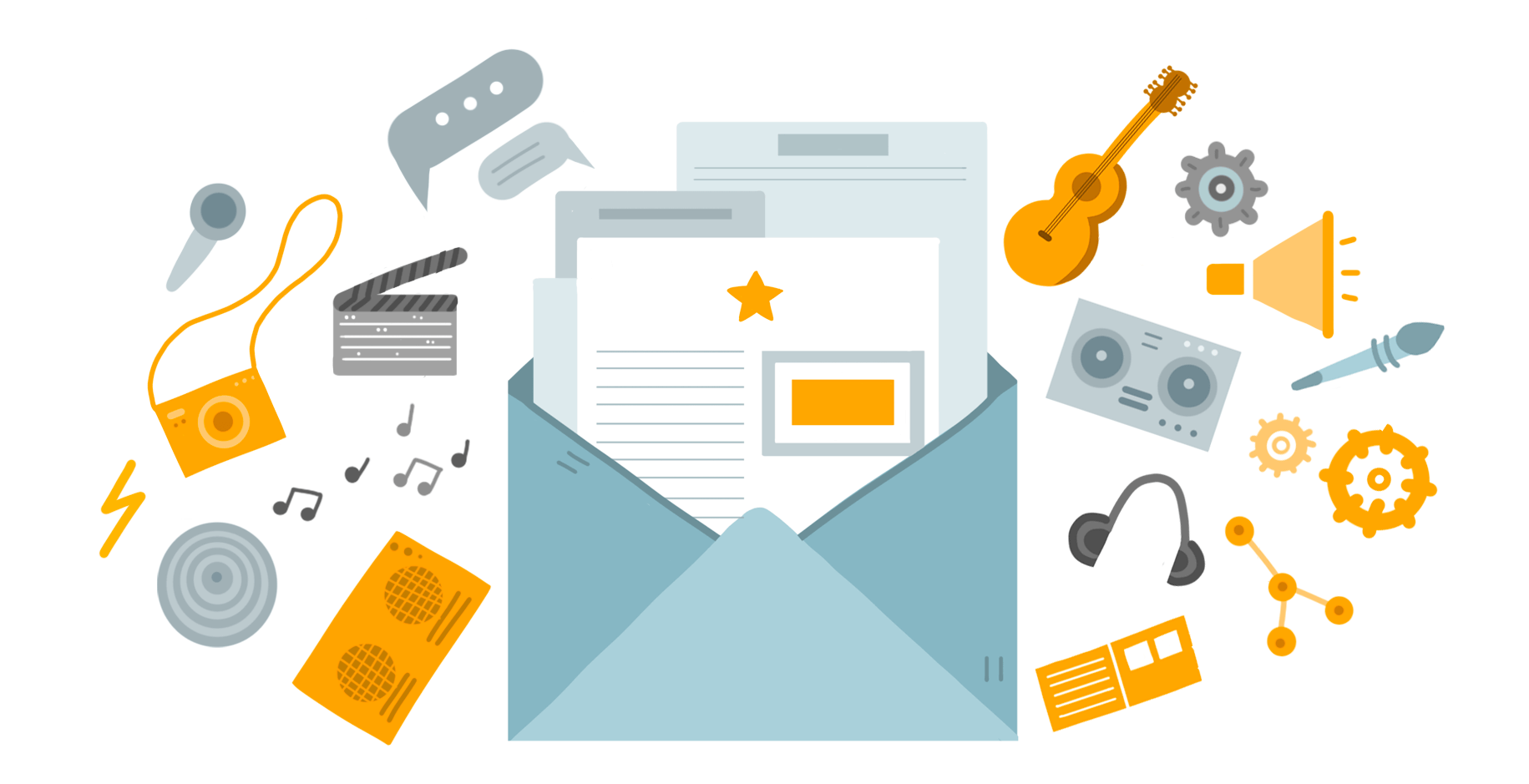Первый найденный шприц и дохлая кошка, первый глоток вина и первый секс — в девяностых за гаражами был отдельный мир со своими законами, понятиями, иерархиями, даже армиями. Гаражи-ракушки стали местом силы и пространством свободы, где вместе экспериментировали и учились жить дети и подростки из самых разных семей. Артём Акшинцев рассказывает о детстве в эпоху «Денди» и «Робокопа», Кносском лабиринте гаражей, правилах жизни на районе, шалостях и кражах, а также о том, как гаражи формировали поколение, заставшее четырёх президентов, и почему самыми близкими могут оказаться вдруг совершенно чужие люди из соседней многоэтажки.
«Чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться. А другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать».
Чак Паланик «Рэнт: Биография Бастера Кейси»
Ребенком лет пяти я проживал в удалённом от города микрорайоне. Такие принято называть спальными, правда, ночью спать никто не хотел. Повальная безработица и разгул криминала девяностых окончательно сбили трудовые ритмы некогда советского народа, а потому с наступлением темноты адепты капитализма спешили скручивать колеса, взламывать склады, угонять тачки и обносить приостановочные ларьки. Те же, у кого была работа, несли сторожевую вахту, охраняя своё скудное имущество. На тёмных улицах ночные промысловики пересекались с запоздавшими заводчанами, трясли с последних деньги и шапки, а иногда и сами получали по башке спёртым мимо проходной ключом-балонником. Так рождались привычные утренние новости об убийствах, угонах и тяжких телесных, воспринимавшиеся с такой же долей заинтересованности как теперь известия о новых санкциях, или визите губернатора в соседнюю область.

Мы, дети тех лет, воспринимали окружающее как должное — сравнивать было не с чем. Полосящая запись «Робокопа» утыкалась в конец перемотки, из гремящей видеодвойки извлекался кирпичик VHS. Теперь гулять. Послесадичный досуг мы проводили на долгостроях и в соседних дворах, часами играли в «Денди», в сотый раз проходили на двоих «Марио» или «Контру». Но были и четкие табу: уходить далеко от дома, подходить к чужим машинам и ходить за гаражи (ни в коем случае!).
Речь шла о сваренных из листового железа коробах, запертых на три уродливых замка и исписанных дутыми буквами и невнятными фразами. Называли их «ракушки» или «пеналы» и появились они благодаря пробелу в законодательстве 1991 года, по которому такие строения приравнивались не к гаражам, а к автомобильным тентам. Ракушки стояли так близко друг к другу, что пройти между ними можно было лишь боком, а пройдя, попасть в засранный лабиринт ходов, усеянный шприцами, бутылками водки «Распутин» и грязным исподним. Ступающие здесь путники помечали стены аршинными росчерками каловых масс и с завидной регулярностью наскребали на них чем-то металлическим свои либо чужие имена. Так можно было узнать, что «ТУТ СРАЛ ВАНЯ-ЛЮТЫЙ» или что «НИНКА СУКА», и жить с этой информацией на всякий случай.

По большей части эти убогие боксы служили вместилищем ржавых «Москвичей» и дачной картошки, которая в солнечные дни часто проветривалась у гаражных ворот. Челноки хранили там свезённое для торговли тряпьё, водку-«казашку» и прочий рыночный ширпотреб. Детские же площадки во дворах были заставлены зелёными «мерсами», вишневыми «девятками» и иными «почтенными» авто той эпохи. Их обладатели с понтом хлопали дверцей и, пиликнув сигнализацией «Мангуст», юрко вбегали в распахнутые подъезды — домофонов тогда не было и слова такого мы тоже не знали.
Из трёх запретов мы соблюдали лишь один — не подходили к машинам. Два других мы нарушали постоянно. За гаражи ходили в основном под вечер. Днём катакомбы пустовали, и встретить там можно было разве что ушедших умирать кошек, трупов которых тут было достаточно. Родители рассказывали нам о наркоманах и маньяках, скрывающихся здесь, словно циклопы Тартара во мраке Эреба, придумывали ужасные истории про то, как «один мальчик зашёл за гаражи и пропал». Но, черт возьми, на нас это не действовало. Нас тянула в мрачные закоулки дворов неутолимая жажда приключений.
Мы лазали по открытым подвалам и катались вверх-вниз на утлом лифте, тем самым доводя диспетчера до нервного срыва и заставляя его орать на нас через оплавленный динамик лифтовой кабины. Мы искали ящериц в местных болотах, делали вид, что куда-то едем в сгоревшем средь двора запорожце, и лишь иногда от скуки мы заглядывали за те самые гаражи. Вечером гаражные ряды превращались в партизанский лес, куда захаживала кодла с соседних районов. Они «мохали» клей и отлавливали заплутавших дошколят. Конфликты местных и залётных происходили с завидной регулярностью, и, чтобы выйти победителем, нужно было знать план гаражей, как свои пять пальцев: пути отходов и засад, верховые лазы и оборонительные башни — все эти знания помогали лихо гонять шайки чужаков под грохот щебня о жестяные крыши. Мы были индейцами этих ржавых прерий, Ясонами в Кносском лабиринте. Мы знали о гаражах всё.

Главные уроки школы жизни преподавались также в аудиториях гаражей. Здесь заучивались первые правила речевого этикета, столь же необходимые при встрече с чужаком, сколь собакам необходимо нюхать друг другу задницы:
— Ты пацан?
— Пацан.
— Обоснуй, что пацан.
— А ты кто, чтоб я тебе обосновал?
— Леха Котельников, Котёл кличка.
— Кого из старших знаешь?
— А за тебя кто скажет?
Шаблон смол-толка был всегда один: дальше, в зависимости от вводных, вы либо жали руки, либо ждали секундантов для схватки. Можно было разойтись и на оскорблениях, однако в таком случае над вами и вашим собеседником зависала неизбежность поединка — как чеховское ружье, которое непременно выстрелит. Иногда мы просто объявляли войну соседнему району, обозначали время и место, а после держали оборону под кирпичный артобстрел и шли врукопашную по его окончании. Всё ограничивалось фингалами и ссадинами, но за такую смешную цену мы получали очки авторитета — драться с тех пор было не страшно. С годами мы перестали враждовать, теперь пацаны Заозёрного знали пацанов с КЗКТ. Так парень укреплялся в обществе, обрастал связями, за него знали и могли сказать. Подобные ачивки необходимы, если планируешь остаться «на районе», много моих поступило именно так.
Жизнь вырвала меня из района ещё в начальных классах. Кочуя по России, я сменил несколько школ, поступил в вуз, уехал на юга и побывал во многих городах. И вот, спустя двадцать лет оказавшись в родном Кургане, я еду в район детства по маршруту 301 — от вокзала, через Некрасовский рынок до проспекта Голикова, уводящего в спальные районы провинции. За стеклом знакомые болота, из бурой почвы всё так же сереют панельные зиккураты. Ещё с проспекта я примечаю свой этаж и балкон. Кто живёт там сейчас, спустя десятки лет? Кто теперь считает этот район своим от рождения?
Шипящий пазик лязгнул у пыльной остановки. Я сквозь солнце вглядываюсь в бетон: вместо рынка девяностых теперь «Пятерочка», вместо ресторана «У Аркадьича» зеленеет здание Сбербанка, все картины детства спрятались за рекламными вывесками, история скрыта от глаз.
Изменился и ритм района. Раньше местные сновали повсюду, как амбарные мыши, бежали на случайные халтуры, разбирали утренний кефир, носились на рынок и в растаможку за экономией, а после сломя голову неслись к автобусам, словно это последний ЛИАз на маршруте. Теперь же все ходили неспешно, как сытые коты по квартире. Влипнув в этот тягучий кисель, я перехожу дорогу. «Твою мать!» — я ударяюсь ногой о торчащую из асфальта арматуру. Прошло 20 лет, а она все так же калечит забредших чужаков, хоть что-то осталось неизменным. Войдя во двор, я не узнаю его вовсе. Кажется, он стал меньше, гаражей теперь нет, на их месте блестит сухой ковыль, соседний пустырь превратился в болото, всё заставлено цветными иномарками и над ними, как и двадцать лет назад, бледнеют хмурые девятины. На дворе поздний июль, но детей не видно, теперь район и впрямь выглядит спальным. Сгоревший запорожец остался на месте и, кажется, совсем не проржавел, он выглядит даже новей, дождался меня.

Я усмехнулся, вспоминая урбаниста Варламова и его нудёж о ужасах многоэтажной застройки, как вдруг на мое плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Я обернулся:
— Ты пацан?! Чем докажешь?
— Так пацан или нет?
Напротив меня стоял тот самый Лёха Котельников, он улыбался и трепал меня за плечо, его всегда колючие глаза сейчас блестели задором. Я узнал его, несмотря на глубокие носогубные складки, плохо выбритые щеки и двадцать лет иной жизни.
— Пацан, — ответил я, смеясь. Мы похлопали друг друга по плечам.
— Я тебя еще с остановки приметил, ты че тут забыл? Айда ко мне: пятница, брат, посидим.
Мы пили водку на Лёхиной кухне, в квартире, унаследованной им от родителей. Те уехали жить в Новороссийск, Леха же открыл свою автомастерскую и остался в Кургане.
— Ты где сейчас? — закинувшись морской капустой, спросил меня Леха.
— Да в основном юристом, фотоуслуги, ИП короче.
— Мм, ну красавчик, мы тоже вот с Илюхой с пятого дом, — он ткнул пальцем в маячащую за окном девятину, — шинку держим. Ну, рихтуем, красим тоже, пацаны все свои.
Захмелев, мы вышли на балкон. Район начал сыреть, сумерки съедали его очертания, болотный запах вплетался в сухой ковыль. Пустырь подсвечивался фарами «Жигулей» — это вернулась из центра местная молодежь. На одном из их вёдер дебильным шрифтом Lobster был начертан хэштег #времянаводитьсуету, из пердящих динамиков долбил гнусавый рэп — привычная ныне картина глубинки.
— Куришь еще? —поинтересовался Леха, смахивая со спички огонь.
— Да, давай сигарету. Я затянулся и, выдыхая в оконную темень, спросил у Лехи про гаражи.
— А-а, гаражи, — Лёха сплюнул через балкон, — ничё себе, ты вспомнил. Да с гаражами всё ясно. Ещё в нулевые старики все почти померли, кто не помер, того дети к себе забрали. Квартиры продали, гаражи вынесли. Тут по итогу половина ракушек пустовала. Пижамыча-то помнишь?
Пижамыч — это дед-НКВДшник, активист двора.
— Вот он потом жалобу накатал в администрацию, типа, эти гаражи социально опасны. Ну, в один день их все сгребли и на чермет как самовольные постройки. Зато у нас теперь ГСК построили, вон там, за шестнадцатым домом, — Леха указал сигаретой в сумрак по направлению к дальней девятине, — там и у меня бокс. Ну, я тебе говорил, пойдем, я свою шинку покажу.
Мы шли по заболоченным пустырям, район пах, как и в детстве — септиком и сырым подвалом. Сидя в гараже, в салоне его Kia Carnival, мы ждали остальных пацанов, которых Лёха успел вызвонить по дороге до ГСК. Меня насмешила мысль, что встретиться нам вместе снова суждено в гаражах. Уже не в тех ржавых ракушках, но в серьезном, многорядном гаражном кооперативе. Да, в период взросления загаражные картины приобретали всё больший гротеск. Железные ракушки были лишь преисподней перед гаражными кооперативами, занимающими половину площадей микрорайонов и аккумулирующими в себе все порочные движения города: в тупиках спали бомжи, в заброшенных боксах устраивали костры и оргии, на крышах находили откинувшихся нарков и недоеденных собак. Эти кирпичные утёсы, стоящие на отшибе города, собирают всю его грязь, как берег собирает морскую пену.

В тот вечер мы собрались вновь, взрослые, разномастные мужчины, разговаривали о детских шалостях, вспоминали, кто с кем дрался, кому достался кассетный плеер Kenwood после обноса ларька с уснувшей продавщицей. Всех этих весёлых разговоров хватит сполна на вечер. Завтра мы разойдёмся по своим офисам и мастерским, поедем в рейсы на дальняк и не найдем больше повода встретиться вновь. Чужие друг другу люди, нас породнил район.
Моя провинция всё также покрыта пылью грунтовых дорог, всё те же бабки в шанхайках топчут паркет собеса, а в ДК Железнодорожников торгуют узбекскими шубами. По весне здесь раскурочивают асфальт и вечно меняют трубы, красят фасады и пилят корявые клёны. Стоит уехать на пять или десять лет — ничего не изменится. Да, будут сноситься старые гаражи, строиться новые девятины, но все это лишь движения фигур на шахматной доске кварталов, затянувшаяся партия, за ходом которой остается только наблюдать.
Иллюстрации: Юлия Прокопова