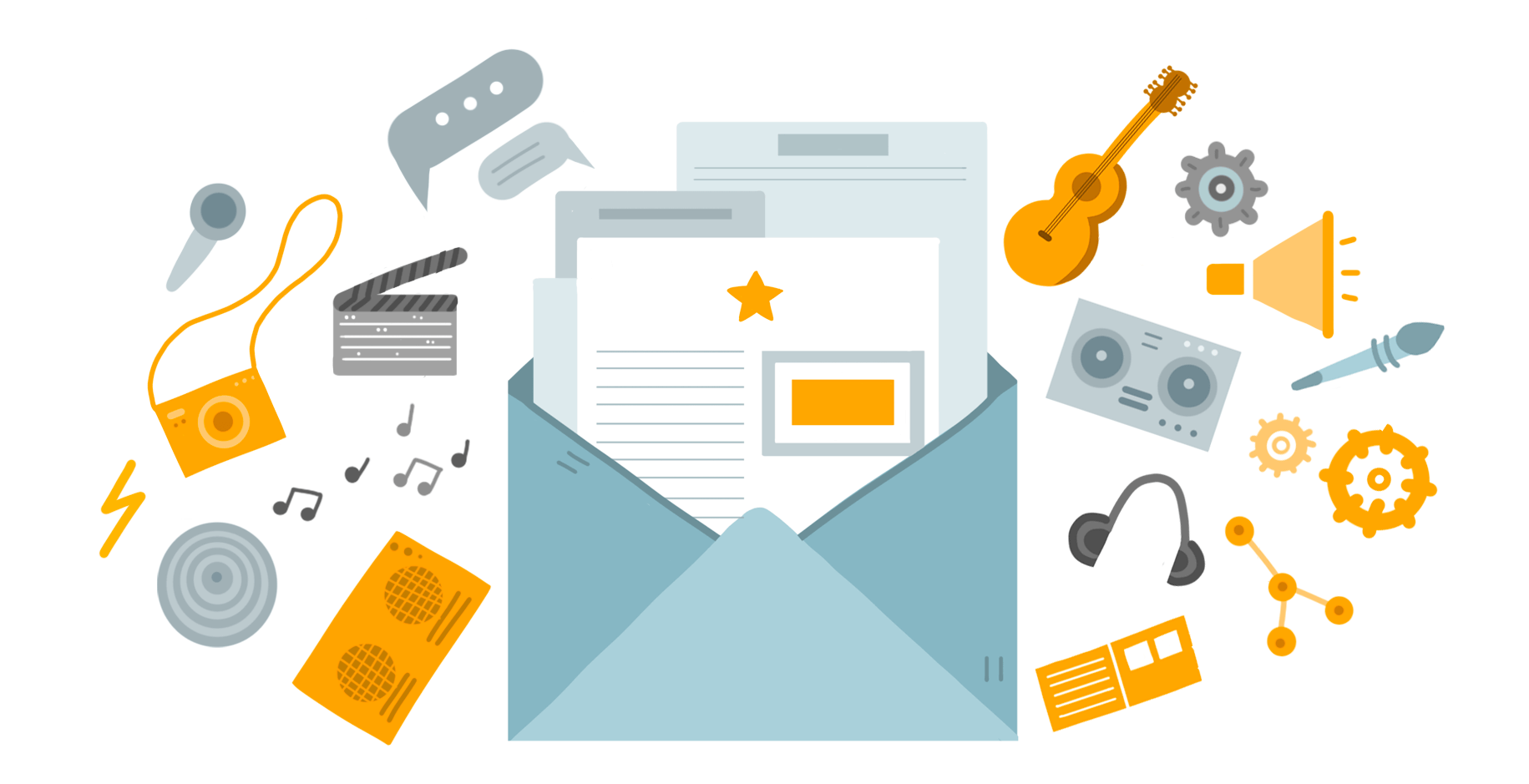Музыкант и писатель, чья жизнь оборвалась в СИЗО, Павел Кушнир оставил после себя роман, склеенный из фрагментов — «Русскую нарезку». Эта книга, собранная по принципу cut-up, деконструирует язык власти, военный миф, и, помимо прочего, структуру художественного литературного высказывания. Почему Кушнир нарезал текст, как хирург, как это соотносится с философией Делеза, идеей паноптикума Фуко и с антивоенным протестом? В годовщину гибели писателя критик Гора Орлов публикует первый аналитический разбор одного из важнейших романов современной русской литературы, показывая, как текст становится местом и инструментом борьбы с деспотией и насилием.
Фигура Павла Кушнира стала широко известна уже после его смерти. Кушнир погиб год назад, 27 июля 2024 года, в СИЗО Биробиджана, куда был заключен по делу «о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности». Родился в Тамбове в семье композиторов и при жизни занимался классической музыкой. К 17 годам мог исполнять сложнейший цикл из 24 прелюдий и фуг Шостаковича. После обучения в родном городе поступил в консерваторию имени Чайковского в Москве. Помимо музыки, Павел работал над литературными произведениями. В 2014 году вышла его «Русская нарезка». В 2025 году, благодаря усилиям литератора Дмитрия Волчека, в издательстве «Медузы» опубликовали «Биробиджанский дневник». Почти 10 лет текст дебюта оставался почти без критического внимания. Эта работа — первая попытка композитного осмысления романа. В ней разбираются кино- и литературные отсылки, которые можно встретить в пределах «Русской нарезки», рассказывается и о генезисе приема, лежащего в основе книги, и осмысляется тема насилия.
Как правильно резать?
Павел Кушнир словно раскладывает колбасную и сырную нарезку в пространстве своего письма. «Русская нарезка» содержит в себе шесть частей. Некоторые из них также имеют композитное устройство. Первая — вступительная. Вторая — дневники недавнего, несвободного времени. Третья — дневники времени еще свободного. Четвертая глава — рассказанная от лица Маргариты первая часть «Фауста». Пятая глава — фантазмы, все идет к концу. Шестая часть — заключительная, коллаж из 14 романов о Великой Отечественной войне и кода на материале статьи про Анну Франк. Говорит аннотация, поясняющая структуру.
Первая часть начинается с описаний военных действий. По словам Дмитрия Волчека, издававшего на русском франкоязычного Пьера Гийота, «Русская нарезка» открывается с оммажа роману «Эдем. Эдем. Эдем». Действительно отмечаем там военные действия, костры, насилие, детей, женщин, мужчин, обнаженные члены. Аналогичную картину, отражаясь в зеркале мимесиса, рисует и Кушнир в «Русской назерке», смотря на текст Гийота. Книга последнего была запрещена на родине на протяжении 12 лет. Подобное сближение дано, чтобы деколонизировать мир, убрав Европу из центра. Очевидно, что языковая деконструкция такого типа несет в себе анархическую потенцию. Язык, как и культура, по Кушниру — прежнее: их необходимо дезавуировать. Мы есть культурная колония Европы. Заново нарисовать границы — единственный из возможных способов сделать это. Подобный жест — детерриториализирующая сила, нарождавшаяся в авторе-создателе «Нарезки». Кушнир — явление мира, одной европейской культуры ему мало.
Детерриториализация — один из ключевых терминов Жиля Делеза. Согласно нему, любое творческое переустройство реальности важнее, чем прагматичность результата. Логика Кушнира такова, ее можно нащупать: в школах мы, пускай и не изучаем конкретно Гийота, но зато каждый, кто листал учебник литературы, понимает, что именно из программного трактата теоретика Никола Буало возникла комедия «Горе от ума» Александра Грибоедова. Против этой ситуации выступает Кушнир: ему чужды иерархии. Письмо — один из способов деколонизации.
Во второй части Кушнир предстает перед нами довольно показательно в лице соседа по общежитию, который зашел к приятелю, чтобы посмотреть, не умер ли он после того количества алкоголя, которое выпил. В этом есть автоописательность. В сцене герой замечает, что товарищ лишь силится выглядеть несколько хуже, чем тот есть, что вообще-то укладывается в экономику христианской этики — думать о другом лучше.
Следуя за идеей деконструкции моноязычной позиции, литератор сочиняет в третьей части текст, написанный на вымышленном языке на’ви(язык, разработанный для фильма «Аватар»). Его характерные особенности — наличие апострофов между буквами, использование «tx», «ng», «ts», «ì», «ä». Основные смысловые доминанты текста — путь, дом, дружба, народ, а также единство.
Финальная часть заключает в себе 14 текстов о Великой Отечественной войне — пантеоне книг, творящих миф. Читатели узнают здесь «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Момент истины» Владимира Богомолова, «Июль 41-го» Григория Бакланова, «Воспоминания и размышления» Василия Жукова, «Усвятских шлемоносцев» Евгения Носова, а еще «Живых и мертвых» Константина Симонова. Большая часть текстов, которые воспроизведены Кушниром, выказывают недовольство войной. Он, подобно Сорокину эпохи концептуализма, — первые два романа — критикует СССР. Только автор «Очереди» делал это, высмеивая, Кушнир же — нарезая.
Война является лейтмотивом дебютного романа Павла. Ее эхо заметно на значительном протяжении текста. Автор начал писать «Нарезку» в 2007 году, закончив через 7 лет — в 2014 году, до активных событий на Украине, — в письме многое предвосхитив. «Русская нарезка» — деконструкция. Это понятно: за сим и нужен заточенный остро. Ведь деконструкция сама по себе — концепт дуальный. То, что разрушает, но и создает.
Вдоль
Метод cut-up, которым пользуется Павел Кушнир в своей «Русской нарезке», сперва восходит к опыту дадаиста Тристана Тцара, придумавшего делить написанный текст на части. С этим механизмом работал битник Уильям Берроуз, когда создавал «Голый завтрак». Метод нарезки последнего был осмысленней: тот разбивал тетрадь натрое. Одна из частей — фразы и диалоги, вторая — личные впечатления, мысли, третья — цитаты из прочитанного. По итогу нарезал их, смешивая и сшивая в единый текст. Иногда Берроуз отдавал под нож конкретные произведения, вторя тут своему другу, писателю Брайону Гайсину. Расширенный «метод нарезки», называемый «метод свертывания», тоже использован в книге, которая является компиляцией произведений многих. У Уильяма Берроуза был манифест, который назывался «Воры». В нем тот говорит: необходимо покончить с фантомом оригинальности. Битник манифестирует: нужно брать чужие предметы искусства, делая из них свои. Прием детерриторизирует. Язык же — контроль, автор «Голого завтрака» совершает террористические атаки на слово с помощью излюбленного метода. Нарезка — метод, противоречащий контролю.
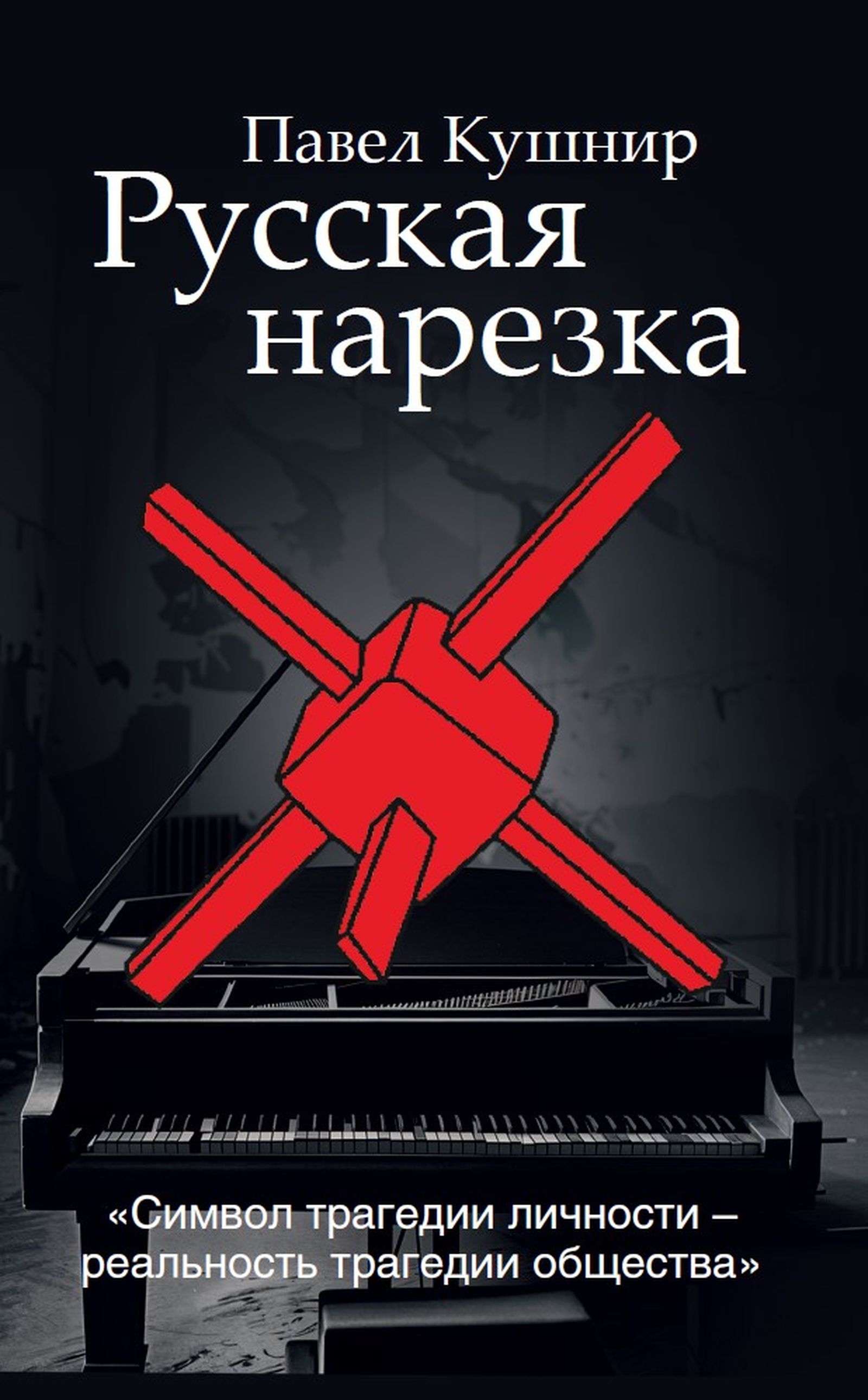
Если вспоминать о литературных текстах, то и «Бесплотная земля» нобелиата Томаса Элиота прошла через острие: там, по словам битника, содержались газетные вырезки. Кроме того, метод был актуален для работ авангардистки Кэти Акер. По словам критика Александр Скидана, та использовала почерк Берроуза, чтобы создать мозаику, которая состояла из порнографии, детективов и научной фантастики. «Эти жанры под ее ножницами превращались в исповедь-пытку», — отмечал Скидан.
Cut-up в своей работе использовал текстолог и лауреат Премии Андрея Белого Владимир Эрль. Неподцензурный автор работал таким методом в пределах повести «В поиске за утраченным Хейфом», выходившей на страницах «Митиного журнала». На отсылку к берроузианскому вновь обратил внимание петербургский литератор Александр Скидан, написавший о статусе текстуального артефакта. По его убеждению, работа является «теневым краеугольным произведением неподцензурной литературы». По словам Эрля, он придумал только заглавную строчку, остальное — нарезка чужого.
«приехав только 3 апреля ночью конеч
но лишь от своего имени и с оговорк
ами относительно письменных тезисов
я передал дважды эти стороны безусл
овно при условии перехода частей кр
естьянства к несомненной добросовес
тности организации текущего момента
в силу легальности страны и наконец
особым условиям жизни масс! никакой»
Владимир Эрль «В поиске за утраченным Хейфом».
Кушнир также обращает внимание на сонеты близкого к поэзии лианозовцев Генриха Сапгира, говоря, что в них содержится попытка обуять метод нарезки. Но нет никаких сведений об упоминании взросло-детским автором произведений битников или же того, что ему была интересна логика письма Уильяма Берроуза. Не отмечается это и критиками.
У Павла Кушнира при жизни выходило эссе «Русская литература и метод нарезки» в 2017 году, когда рукопись была уже завершена. Там литератор проговаривается о многом. «Русская нарезка» — текст герметичный, порой малопроницаемый. Публикация размышлений о природе этого механизма в пределах одного издания — помещение вперед или позади — могло бы подсобить тем, кто хочет лучше понимать, что перед ними. Не только в ощущениях. Например, Кушнир в этой работе уточняет, что потенциал метода cut-up на русской почве не исчерпан.
В числе примеров таковых он приводит роман советского автора Владимира Богомолова «Момент истины», более известный широкому кругу читателей с названием «В августе сорок четвертого». Подобно тому, как учитель Кушнира Берроуз поступает с произведением Кафки, автор «Русской нарезки» присваивает текст Богомолова, пуская в ход нож, препарируя его. Сюжет «Моментов» выстроен вокруг военных действий на территории Белорусской ССР. Основа текста Богомолова: события, описанные в документах современников. Литературный критик Дмитрий Быков в своем лекционном цикле «100 лет — 100 книг» замечал:
«третья часть текста ― внутренние монологи героев, и они написаны джойсовским методом. Особенно поразительны вот эти двадцать страниц, на которых монолог Алехина во время пятиминутного досмотра документов Мищенко».
Джойсовское письмо также можно считать предтечей нарезки: в его работах использовались цитаты, которые потрошили исходный текст привнесенными фрагментами. Сходно поступал и Павел Улитин — экспериментальный автор, пытающийся добыть «новое литературное вещество» в прозе. Последнего именовали «русский Джойсом», и его тексты содержали цитаты на разных языках разным шрифтом, на части страниц писал «для разрезки».
Кушнир был убежден, что метод cut-up — преодоление устаревшего потока сознания в диджитальную эру, когда все есть бриколаж из разных объектов. Писатель вместе с тем, верил, что нарезка на русском — более мрачная, исходя из драматизма языка. По его словам, наиболее заметно это при сличении русскоязычной версии «Голого завтрака» Берроуза с оригинальной книгой. Кушнир предлагает брать тексты из чужих культур, вооружаясь «кат-ап»’ом. Видимо, подобное могло бы помочь манкировать языковыми барьерами.
«Да, это было пять месяцев назад, когда войска наши в Восточной Пруссии… Шёпотом… Рассмешить… погиб, по меньшей мере, один поезд, коверкая русские слова, рассказал, что вседозволенность, безнаказанность и обезличенность немцев теперь вы можете мстить выносить даже смертные пальцы её рук — длинные и гибкие. Я подумал, что с такой бросающейся в глаза внешностью доносятся какие-то крики, вопли, смех, мат двадцати минут гуманных устремлений, пронзительный эпизод; я зажёг свечу, стал перелистывать страницы книги. Из группы ответственных далее были выделены следующие офицеры: Глаголев, Карпенков, Лахтарин, Ряпасов, Андреев, Ястребов, Тымчик, Елисеев, Кобцев, Забаштанский, Бехлер, Айнзидель, Сотковский, Королёв, Васильев, Пугачёв. Кругом резали…»
Павел Кушнир «Русская нарезка»
Говоря о cut up, уместно вспомнить опыты, связанные с судьбой дневниковых записей модернистского короля метафоры Юрия Олеши. Сперва, в 1965 году, те вышли под редакцией литературоведа Михаила Громова (с предисловием ученого-формалиста Виктора Шкловского: подобный метод укладывается в логику объединения) и назывались «Ни дня без строчки». Затем эти же самые вещи в чуть измененном композиционном виде обнародовала искусствовед Виолетта Гудкова под заголовком «Книга прощания», чуть сместив акценты при помощи монтажа, если пользоваться терминологией Сергея Эйзенштейна, который говорил, что этот прием может быть и литературным. Последняя версия cut up — книга «Прощание с миром: из груды папок», увидевшая свет в 2013 году в редакции литератора Бориса Ямпольского. Еще одно произведение, которое было сформировано в лоне традиции буквенного коллажа — роман несостоявшегося нобелиата Альфреда Деблина «Берлин, Александерплац». В пользу этого высказывался в том числе будущий экранирнизатор Райнер Вернер Фасбиндер.
Философ Вальтер Беньямин также был озабочен идей монтажа. Вторя дадаистам, он использовал эту практику в «Берлинском детстве на рубеже веков». Цитатная склейка, чем должны были быть идеальные «Пассажи» (философ культуры грезил, что они останутся без его разобщающей мысли) по авторской идее должна была быть самоценна. Но полностью воплотить этот замысел не удалось. «Пассажи» однако по большей части состоят из его эссе и опираются на цитаты. Теоретик культуры в программном эссе «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» заявил: монтаж в кинолентах свидетельствует об утрате ауры.
Здесь стоит напомнить спор двух публичных интеллектуалов США в передаче «Голос»: Сьюзен Зонтаг и Джона Берджера, которые в своей полемике затронули тему: «Может ли быть монтаж в литературе или это методика лишь кино и фотосъемки?» Зонтаг на это отвечает отрицательно. Что спорит не только с Берджером, но и с Эйзенштейном. Теоретик кино уверен, ощущение общности возникает у предметов, расположенных в кадре рядом. Такие же мысли озвучивала Зонтаг в сборнике эссе «О фотографии», где говорила, что снимок делает важным все, что в него помещено. Делает помещенное в нем равнозначным, добавим от себя. Но Зонтаг не смогла заключить: текст являет и компанует образ.
Программная работа Эйзенштейна рассказывает о монтажном сознании авторов в широком смысле. В числе писателей, применявших этот принцип, теоретик кино называет Александра Пушкина, работавшего так при написании «Полтавы», а также Ги де Мопассана в «Милом друге». Анализируя текст солнца русской поэзии, он выделяет разные планы повествования — от общего, показывающего действие целиком, до крупного. В визуальном искусстве Эйзенштейн называет авторов полотен: Василия Сурикова, Владимира Серова, Эль Греко, в кино — свой немой кинофильм «Октябрь». Идея Эйзенштейна во многом синонимична методу нарезки. Его текст появился в 1923 году. В Европе в авангардистской среде кат-ап успел зародиться к 1920-м. Сегодняшние исследователи видят монтажную технику в работах наследницы Олеши в прозе: Татьяны Толстой, создавшей «Кысь»; Владимира Маканина, придумавшего «Асан»; Виктора Пелевина, сочинившего «Generation П» — письме постмодерна.
Фигура Акер — не единственная, кто возникает в уме, когда говоришь о стилистике «Русской нарезки». Значимой для контекста художественной работы является также издательство экспериментальной литературы Kolonna Publications, где выходили некоторые из текстов Берроуза и его наследницы по творческому методу Акер. Волчек замечал, что выпускаемое им было важно для манеры формировавшегося Кушнира — писателя, чей идиолект находился тогда в становлении. Волчек видел в его работах отсылки к Александру Ильянену, Павлу Улитину, Евгению Харитонову. Всех вышеперечисленных в той или иной мере можно назвать авторами трансгрессивных произведений. Эта свойственно и прозе Павле Кушнира в «Нарезке». Последний инстинктивно присматривается к языку насилия, начинает говорить на нем. Возможно, из обычного интереса к трансгрессивному, выросло куда большее — предсказание.
Сut-up вообще не только про литературу. Этот метод куда шире, (анти)структурней. Кушнира как музыканта волновало то, что нарезано может быть аудио и кино — как синефиломана. Об этом пишет издатель «Митиного журнала» Дмитрий Волчек, обнародовавший список фильмов, которые Кушнир планировал включать на показах несостоявшегося киноклуба. В их числе 25 киноработ, среди которых как классики Французской новой волны, так и современный нам Ларс фон Триер. Одним из фильмов, к которому нарочно отсылает Кушнир на страницах «Русской нарезки» — «Into the Wild» Шона Пенна, где рассказывается о путешественнике Крисе, который умер от голода на бывшей российской территории — Аляске.
Режиссер артхаусных фильмов Джим Джармуш заявлял, что его «Предел контроля» рожден в логике метода нарезок. В числе музыкантов подобное было продуктивно для рок-исполнителя Дэвида Боуи, сочинявшего так песни. Тексты для «Kid A» нарезанием создавал также лидер группы Radiohead Том Йорк. Берроуз влиял и на Курта Кобейна — фронтмена рок-коллектива Nirvana. Один из идеологов индастриала в музыке Дженезис Пи-Орридж — из числа наиболее заметных последователей методологии cut-up. Сперва нарезка являлась частью творческого почерка, затем — басист Psychic TV начал полосовать ножом себя.
О чем «умирает» «Нарезка» Кушнира
«Русская нарезка» — паноптическая машина, как бы это сказал общий философский рот Мишеля Фуко и Жиля Делеза. В книге Кушнир пишет о военных действиях. Чтобы приблизиться к пониманию того, как это изображено, нам потребуется привлечь теорию мыслителя Мишеля Фуко о паноптикуме. Этот термин реактуализируется на страницах книги «Надзирать и наказывать», где француз рассказывает о тюрьмах. Вдохновляясь концепцией философа Джереми Бентама, Фуко предлагает строить места заключения круглыми. Так, по его мнению, получится проще следить, если в дополнение к этому поставить башню, куда посадить надзирающего. Однако на самом деле наверх не обязательно забираться: достаточно создать такую ситуацию, когда люди будут убеждены: за нами наблюдают, спрыгивать с нар и рыпаться — опасно.
Мишель Фуко на страницах «Надзирать и наказывать» пишет о чуме как о причине логики паноптизма. Фашизм же называли «коричневой чумой XX века». Метафора эта из одноименного романа нобелиата Альбера Камю. Военная агрессия по отношению к Украине, по словам Тамары Эйдельман, является проявлением этой идеи. Историк высказала такую оценку в интервью на ютуб-канале «вДудь», ссылаясь на классификацию из эссе «Вечный фашизм» философа Умберто Эко.
Паноптизм, изображенный в книге Фуко, является формой контроля. Как и война сегодня. Идеологи ее управляют жизнями и смертями, решают за них. Чума — чужая воля, и она алогична, не хочет быть отчетливо сформулирована. «Чуму встречают порядком», — отмечает француз в пределах «Надзирать и наказывать». Эти мысли соотносятся, например, с Делезом, который резюмируя опыт Фуко, пишет, что мы всегда находимся в разных обществах, претендующих на нашу свободу: в семье, школе, фабрике, тюрьме. Если пойти за Делезом, держащим за руку Фуко, дальше: отметим, что война является еще одной ипостасью общества контроля — ее машиной. Делез считает, что новые акторы появляются, ведь прежние утратили изначальную силу. Значение семьи, школ, фабрик претерпели изменения. «Контроль» в понятийном аппарате Делеза явлен не только сквозь Фуко, но и через Берроуза. По битнику оно — страшный сон, для товарища Делеза же — неизбежное, но прогнозируемое будущее. Российское общество до 2022 года, не имеющее идеологии, было плохо управляемо. Решением для этого стала война, которая объединила людей. Формулирование идеологии — сложный процесс, требующий усилий. Война — более легкий ход. Теоретик тоталитаризма Ханна Арендт замечает: когда власть ослабевает, усиливается насилие. «Большую часть людей поместить в тюрьму — сложно», — пишет Делез. Искупать их в крови куда проще, и, что главное, в результате значительно прогнозирумей. Кровь объединяет. Делез считает, что новые институты контроля — будут. Один из таких, на наш взгляд, иноагентство. Это куда более эргономичная форма бытования. Философ предполагал «браслеты на ногах», какие видели у участницы Pussy Riot.
Кровь электрическая
Важная теория, которая объяснит происходящее в романе, — «машина войны», озвученная философом Феликсом Гваттари. Это понятие впервые появляется в статье «Машины и Структуры» за 1969 год, вдохновленная интеллектуальными разработками Делеза. «Машина войны» является важнейшей концепцией тандема. Это определение не связано с войной, но с — освобождением, противостоянием государственному контролю. Метод нарезки здесь — способ преодоления границ.
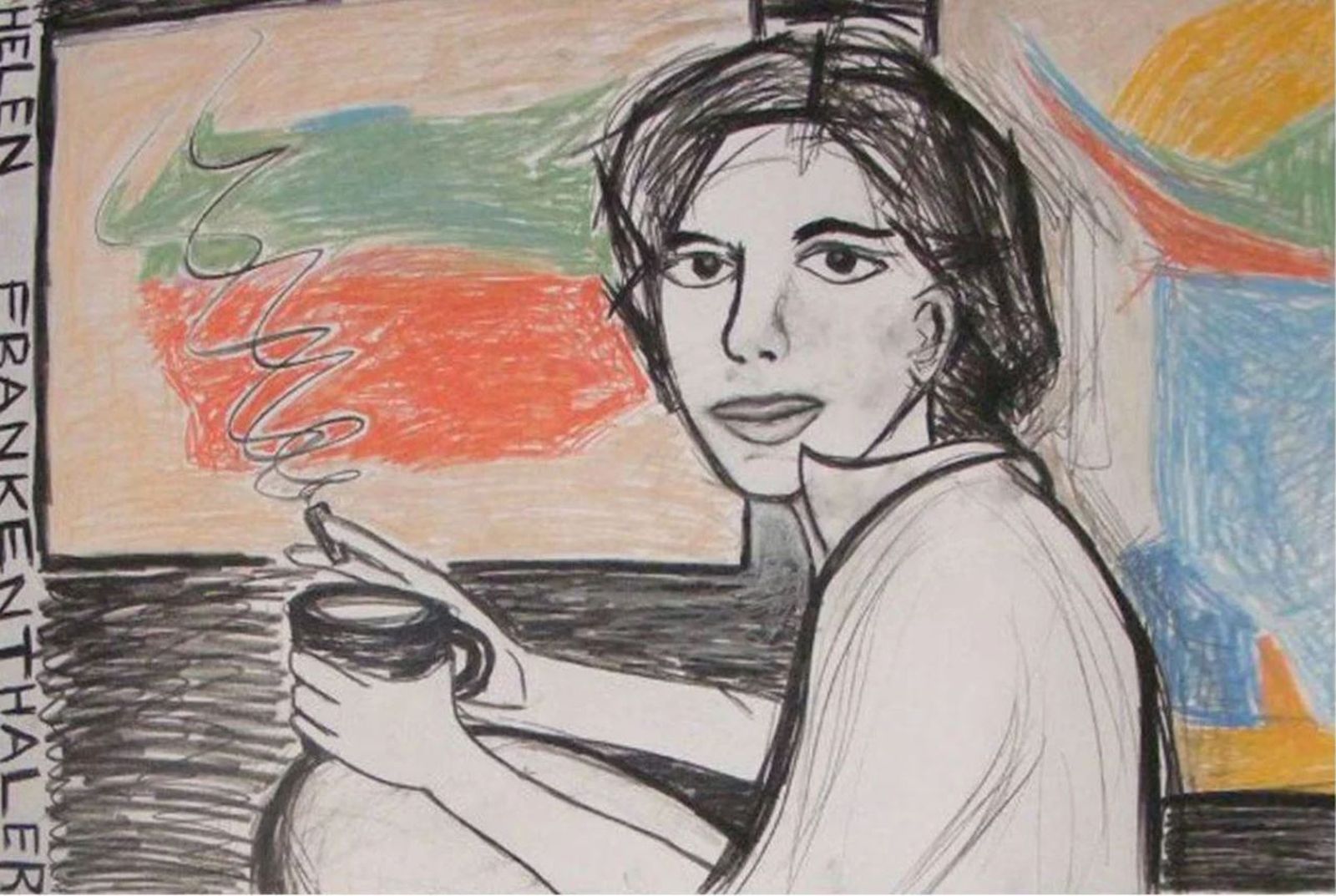
Осмыслить феномен военных машин, хотя и в более прямом смысле, пытался в том числе философ Мануэль Деланда, который в своем главном труде «Война в эпоху разумных машин» приходит к выводу, что критерий разумности меняет наше бытовое представление о театре военных действий, превращая его в кинотеатр, преобразуя. В работе философ сосредоточен на анализе того, что составляет эту «феррари»: ракеты, радары, сети управления, командования и коммуникации, военные игры, системы числового программного управления и компьютеризированной логистики. Мыслителя-делезианца волнуют антропологические сдвиги, но не то, как ситуация влияет на «моралите». Для Кушнира же машинное обладает скорее негативными коннотациями. Что такое машина? Это опыт нечеловеческого. Что нечеловеческого показывает Кушнир? Он рисует тела, которые хотели бы утратить мораль, отринуть этику, стать равными механизму. Одна из задач войны — уход от терзаний совести. Делез и его продолжатель Мануэль Деланда не оценивают машинное только как негативность. Машина войны для Делеза имеет продуктивный потенциал. Деланда замечает, что машины, вероятно, не будут идти по пути антропоморфизма. Но, может, таковы будут в своих устремлениях люди, которые захотят быть подобны механизму, чтобы мочь быть в сегодня, требующем уйти от человеческого потенциала.
Философ Ханна Арендт пишет, что насилие — индивидуальный феномен, а власть — нет. В ситуации паноптикума последнее — в руках многих. Можем вспомнить о слежке камер в общественном транспорте, где агрессия съемки проявляет себя в полную силу. Власть же — в руках одного. Того, кто хочет ассоциироваться с монархом, не свергнут. Фуко заметил, что десубъективация является одной из важнейших черт паноптикума. Это нужно затем, чтобы война не имела лица. В том числе, путинского. В типично арендтовском понимании насилие подразумевает персонализм. Изображенная Кушниром машина резюмирует: паноптическое участие всякого позволяет разделить вину, а убивает механизм. К слову, уход Кушнира из мира живых в том месте, где царствуют машины, — попытка радикального пересмотра персональной субъектности и свидетельство невозможности быть в подобном устройстве. Чем не décréation?
За эти 7 лет Россия нарезала себя, отдавшись вепрю суицида под звуки суицидального диско. Это становление Кушнир и фиксировал на бумаге, пока тело окончательно не оставило. Умерев за родину, мог оказался главным патриотом государства. Но Россия в том виде, в каком есть теперь, вряд ли способна оценить подобный жест. Для системы похожие на Кушнира — есть винтики, которые следует вовлечь в логику паноптикума. Ситуация войны для автора — фукианская разработка, преобразованная техническими средствами. Подобный ход позволяет лучше контролировать людей, овладевать ими. Берроуз, как и Кушнир, предлагают метод нарезки, чтобы противиться контролю. Павел, манифестируя нож, выточил вещь глубоко пацифистскую и антивоенную.
Острие здесь, вроде бы, дадено как гарант свободы. Кушнир не понял, что его лезвие имело не только пространственный, но и временной потенциал. Это разрушает не только и не столько логос: он посчитал, что протестовать выйдет лишь только своими телами, их целокупностью. В любом случае подобный выбор лучше, поскольку ненасильственен. Снижение агрессии общества, которое вообще-то декламировал мыслитель Стивен Пинкер в сперва обнадеживающей «Лучшее в нас», явлено нам сегодня через повышение аутоагрессии. Насилие как и всякая энергия, не могло просто раствориться, не перейдя в другое агрегатное состояние, которое на себе испробовал Кушнир. Уход Павла — не только из-за сгущающейся невозможности быть, но и: отсрочивание главной битвы. «Нарезка»: временная защита перед лицом Танатоса. Машина войны, которая борется с государством. Эта ситуация необходима, пока не поймем, что противопоставить.
Стоит помнить, что любой антивоенный жест вовлекает в паноптикум, делает видимым, политически активным и потенциально опасным — как для того, кто так себя манифестирует, так и для того, кто наблюдает. Таким образом, можем артикулировать себя — и в антивоенной сборке, и в очереди на виселицу. Наше тело позволяет предъявлять себя одновременно в различных модусах. Поэтому, может, острие таки станет спасительным: нож в качестве маховика, Кушнир же — как иллюстрация того, что добро сегодня вынуждено демонстрировать кулаки.
Не используя.
В чем — сила ненасилия.