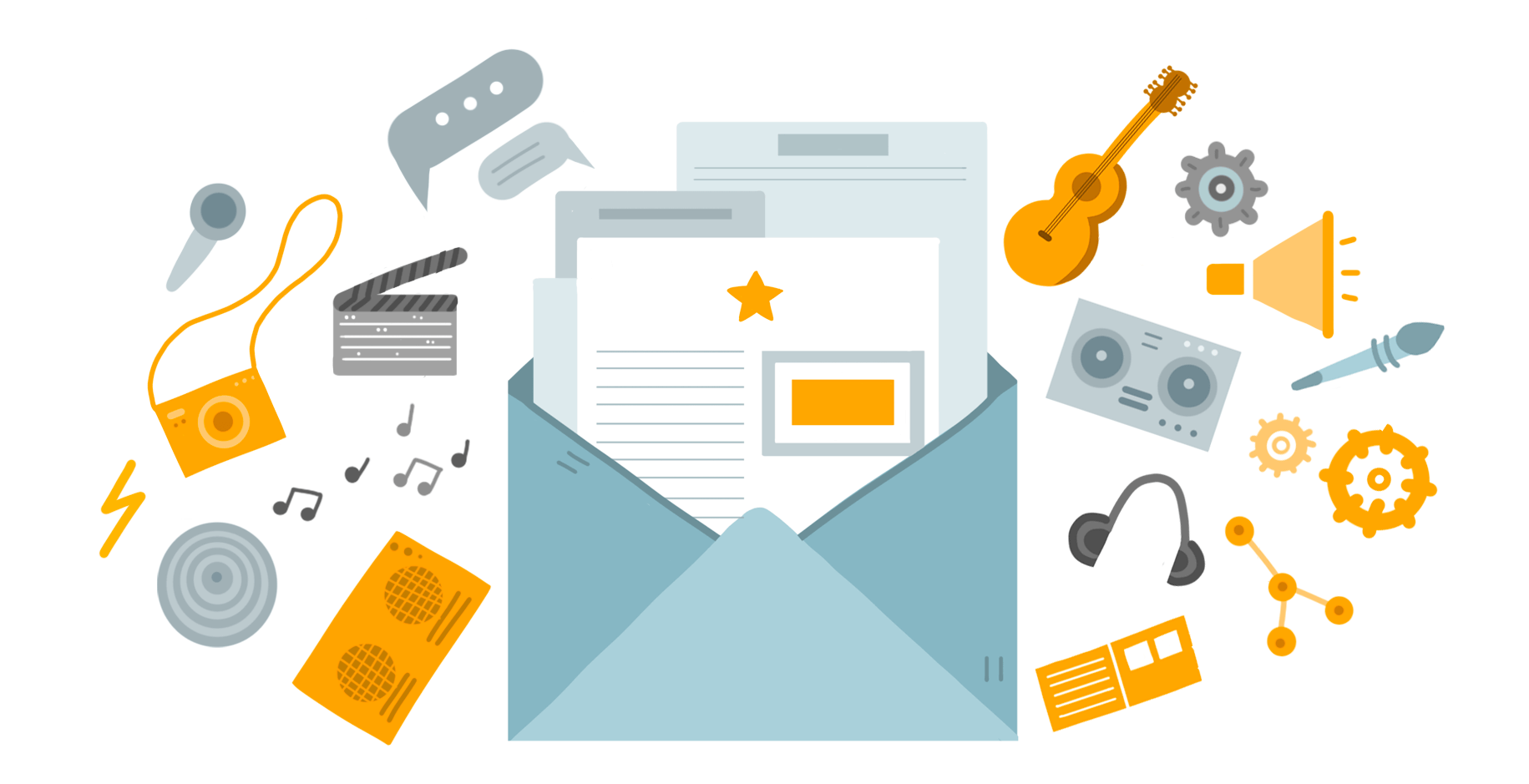Порядок быстро тускнеет.
Первые сегодня со временем станут последними,
Потому что времена — они меняются.
Боб Дилан, из альбома The Times They Are a-Changin’
…Огромное количество людей по всему миру слушают песни на английском языке, зачастую не вдумываясь в их содержание или не имея возможности понять текст в силу как недостаточного знания языка, так и сложности восприятия текста песен на чужом языке. Однако песня — нерасторжимое единство слова и музыки и, игнорируя смысл, мы обедняем свое восприятие.
Александр Кан, Главные песни ХХ века, авторское вступление
В русской литературе подобной книги еще не было, и если поставить ее на некую условную тематическую книжную полку, то по соседству окажутся лишь собрание эссе «Песни нашего века» (1999), посвященное авторской/бардовской песне, да сборник пьес Людмилы Петрушевской «Песни ХХ века» (1988). Они созвучны названию книги Александра Кана, но на этом родство, естественно, и заканчивается.
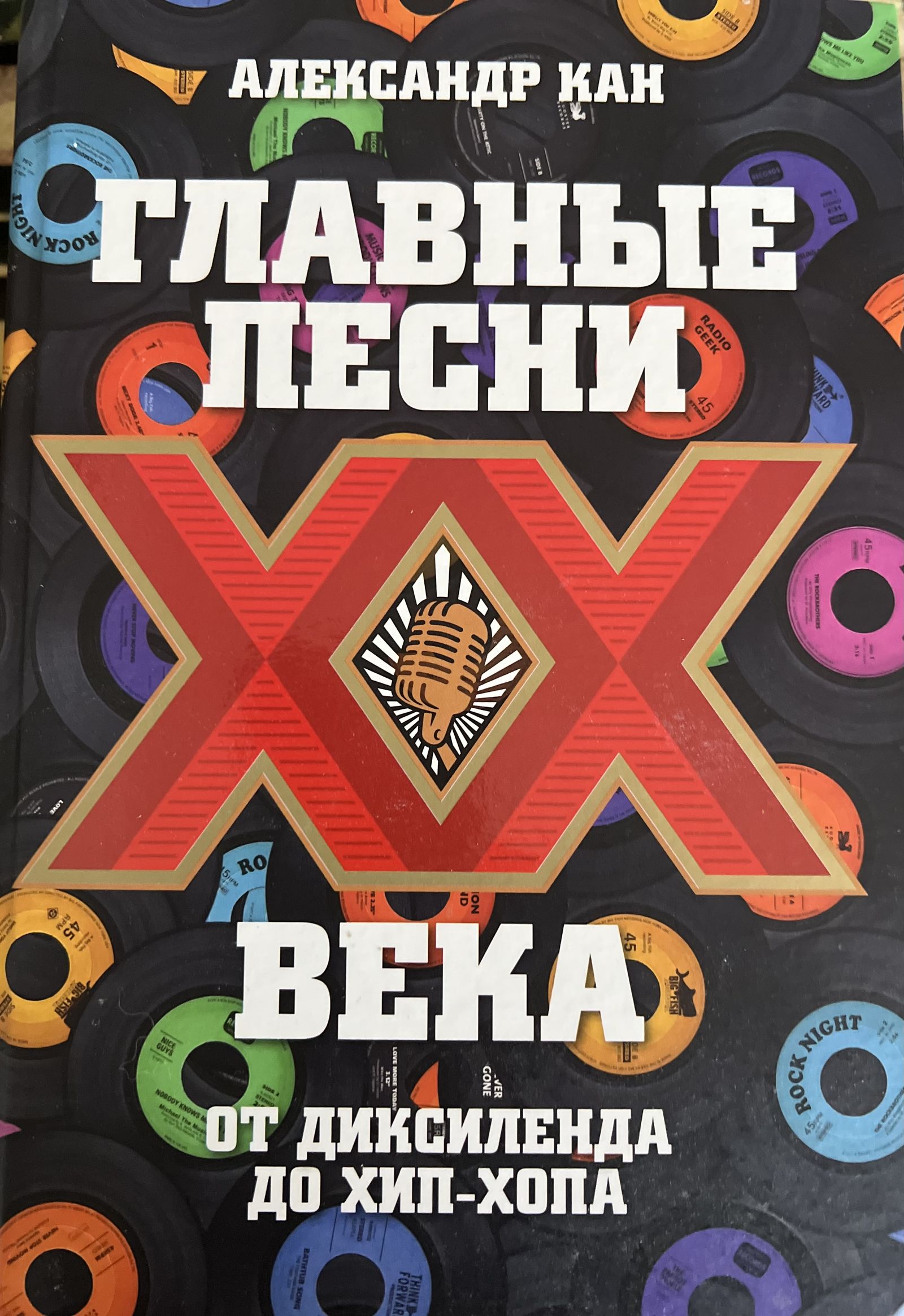
Что касается англоязычных книг, то внешнее соответствие таких классических сборников, как Books That Every Music Lover Should Read, The Popular Song Reader, The Best Songs Ever не вызывает сомнений. При одном «но»: книга, о которой дальше пойдёт речь, написана не только известным джазовым критиком, журналистом, уже больше 25 лет постоянным обозревателем по вопросам культуры Би-Би-Си, но и культурологом, и знатоком литературы.
Как характеризует его Борис Барабанов, музыкальный обозреватель российской газеты «Коммерсантъ», «Александр Кан — легенда русскоязычной музыкальной журналистики. Борис Гребенщиков называл его Оби-Ван Кеноби Петербурга, знающим „код жизни“. Популяризатор джаза и авангарда, соратник Сергея Курёхина и Джоанны Стингрей, после переезда в Англию в 1996 году Кан продолжал создавать радиопрограммы и книги, которые помогали русскоязычному меломану ориентироваться в актуальной музыке».
«я мысленно видел кольца дыма сквозь деревья»
Led Zeppelin, Stairway to Heaven
В аннотации к «Главным песням ХХ века» сказано, что в ней «культурный, исторический и политический портрет века показан через историю популярной песни, каждой из которых посвящена отдельная глава». Прочитав все главы, я хотел бы добавить к портретным характеристикам определение «поэтический».
В книге приведены тексты великих песен прошлого века, а поскольку выстроены они в хронологическом порядке, то в ней отражены и некие этапы в развитии англо-американской поэзии — от ритуального классического спиричуэла «Когда святые маршируют» («Там, наверху, я увижу Спасителя, / кто избавит душу мою от греха / и распростертыми объятьями встретит меня, / когда святые взойдут туда») до поэтических шедевров Джима Моррисона, Дэвида Боуи, Эминема, Пола Саймона, Леонарда Коэна, Лу Рида, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана…
…Люди склоняются и молятся
Сотворенному ими неоновому богу.
И вдруг высвечивается знак,
И в знаке том слова, и они говорят:
«Слова пророков написаны в подземных переходах
И на стенах наших жалких жилищ,
И шепот их слышен среди звуков тишины»
Пол Саймон, The Sound of Silence
В своей недавней статье о полифонии поэтики и джаза, Кан отмечает: «…невиданная в поэзии ХIX века свобода стиха поэтов „джазового века“ Эзры Паунда, Томаса Эллиота, Эдварда Каммингса, Карла Сэндберга — результат столкновения многих факторов, и джаз в их числе занимал не последнее место».
Безусловно, джазовая ритмика, синтез стилей, неизменные импровизации внутри «джазового квадрата», перенос ударения — синкопа — в музыкальной фразе на слабую долю, что стало общей практикой еще со времен рэгтайма, не говоря об атональных и аритмичных фри-джазовых композициях, начиная с 1950-х, не могли не произвести впечатления на англоязычных поэтов.
В свою очередь, поэзия битников, калифорнийской L=A=N=G-U=A=G=E School или американских поэтов-объективистов возвращалась в рок-музыку и рэп (этимологически, одно из определений RAP — Real American Poetry) в виде песенных текстов с непростой лингвистикой, уникальной фразеологией, рваной ритмикой и усложненной строфикой, центонностью, неологизмами и скрупулезным учетом годами отрабатываемых постмодернистских поэтических практик.
Отбрось все свои мысли, отдайся пустоте
Это сияние
Любовь — это всё и любовь — это все
Это знание
Слушай цвет
своих снов
Это не жизнь
Играй в игру «Существование» до конца
С начала
Джон Леннон, Tomorrow Never Knows
К слову, о современных поэтах американской L=A=N=G-U=A=G=E School в Советском Союзе стало курьезным образом известно благодаря музыке. В 1983 году в Ленинград по приглашению Александра Кана, который в те годы был председателем ленинградского авангардного Клуба Современной музыки при ДК им. Ленсовета, приезжает фри-джазовая группа из Сан-Франциско Rova Saxophone Quartet. Гастроли снимали на кинокамеру, а по возвращении джаз-бэнда в США, о поездке был показан фильм на телеканале PBS. Согласитесь: редкая (если не единственная) американская группа в середине 1980-х могла долететь до СССР.
Одного из музыкантов звали Ларри Окс (Larry Ochs), он оказался мужем поэтессы из L=A=N=G-U=A=G=E School Лин Хеджинян (Lyn Hejinian), о творчестве которой и узнает поэт Аркадий Драгомощенко, познакомившись в Ленинграде с Ларри. Так завязались многолетние поэтические связи между поэтами калифорнийской «Языковой школы» и несколькими ленинградскими поэтами из литературного «Клуба 81». А Хиджанян в дальнейшем выпустила в Америке двухтомник текстов Драгомощенко в ее переводах на английский.
Отмечу, что эта авангардная поэтическая школа, которой близка русская футуристическая традиция, оказала наименьшее, на мой взгляд, влияние на тексты американских и английских песен — в силу специфической фонетики, образности, идущей нередко в ущерб формальной логике повествования, неприятии норм поэтизации с лирическим героем во главе, традиционного словообразования и лексической сочетаемости.
В приведённых же в книге Кана песенных текстах особо обращает на себя внимание то, что мы имеем дело с традиционно-поэтическим. И расхожее мнение о том, что песенное либретто не есть поэзия, а лишь нечто более-менее сюжетное, прилагаемое к музыкальной фразе, противоречит текстовым подборкам в «Главных песнях XX века». Кроме музыкальных заслуг, вероятно, они потому и главные, что литературная составляющая в большинстве своем не уступает их музыкальным достоинствам.
На улице шумят дети
Влюбленные плачут, а поэты мечтают
Но не слышно ни слова
Церковные колокола все разбиты
А те трое, кем я восхищался больше всего
Отец, сын и святой дух
Уехали на последнем поезде
В день, когда умерла музыка
Дон Маклин, American Pie
Очевидно, влияние современной поэзии на известные песенные тексты можно рассматривать в двух парадигмах: поэзия битников и американский поэтический объективизм. Первое не нуждается, практически, в пояснениях — рок-поэзия не могла пройти мимо борьбы за сексуальную свободу и либеральные права, политического активизма, «антиядерного движения», да и самих пророков контркультуры, занявших нишу в американской литературе между эпическим Уолтом Уитменом и Марком Стрендом с Чарльзом Симиком, «поэтами безмолвия» по определению Иосифа Бродского. Перефразируя известную сентенцию Теодора Адорно, можно ли было писать после Освенцима, не беря во внимание «Вопль» и «Кадиш» Аллена Гинзберга, или «A Coney Island of the Mind» Ферлингетти?
После поэтически вызывающих и политически взывающих текстов Керуака, Корсо, «энвайроменталиста» Генри Снайдера и Роберта Крили, принадлежавшего еще и к поэтической школе Black Mountain poets; Лероя Джонса (Иману Амири Барака), который был, к тому же, музкритиком; Майкла Макклура, близкого друга Джима Моррисона из культовой рок-группы Doors, и Боба Кауфмана по кличке «Черный би-боп», поскольку его творчество вдохновлялось джазом. Вероятно, за примерами не надо бы далеко ходить, а достаточно одного — современник/сверстник всех перечисленных Боб Дилан, чьи песенные тексты являются примером литературы высокой пробы, и кто, в свою очередь, не только был связан с бит-движением, но и оказывал влияние на самых легендарных ныне его поэтов.
Нас бесконечно пытаются принизить
Просто потому, что мы есть.
Все, что они делают, — мертво и безжизненно.
Надеюсь, я сдохну, прежде чем состарюсь.
Мое поколение,
Да, это мое поколение…
Пит Таунсенд, My Generation
Скорей всего, наибольшее влияние на американскую песню в ХХ веке оказал объективизм. «Традиционный объективизм заключается в том, чтобы относиться к стихотворению как к объекту — без какой бы то ни было рефлексии, с минимальным использованием тропов и способностью поэта ясно смотреть на окружающий, да и на внутренний мир. Рациональное, вдумчивое письмо, в котором эмоции высказаны, скорее, средствами монтажа, нежели метафорами, междометиями, свойственными романтизму лирическими описаниями или символистскими аллегориями». В прямом смысле, по жанру здесь больше вербатима (правдивости, диалогичности, репортажности), чем художественности/изобразительности.
Поэты-объективисты Карлос Уильямс, Эзра Паунд, Луи Зукофски, Чарльз Резникофф были в чем-то близки битникам, поднимая в текстах проблемы социума и экономики, выказывая интерес к политике и, не теряя эстетической целостности, не чуждались гражданского высказывания.
С потушенным светом не так опасно
Вот мы пришли, развлекайте нас
Я чувствую себя заразным дураком
Курт Кобейн, Smells Like Teen Spirit
В то же время, особая поэтическая оптика (вроде: «как много /значит / красная тачка / покрытая глазурью / дождя / среди этих белых / цыплят», кажущаяся простота повествования, которая подчеркивает обыденность происходящего, явленную при минимальной затрате поэтических средств («Крупная молодая простоволосая женщина / в переднике / С гладко зачесанными волосами / стоит на улице / Кончик одной ноги в чулке / касается тротуара / Туфлю она держит в руке. И смотрит / внимательно внутрь / Вытаскивает бумажную стельку / хочет нащупать гвоздь / Который давно мешает ей») родственна ряду песенных сюжетных текстов, всегда отчетливых на фоне песенной музыкальной гармонии. В чем-то в духе традиции имажизма с его внезапной, в то же время бытовой образностью.
А вот пожарный с песочными часами.
В кармане у него — портрет королевы.
Он все время драит свою пожарную машину.
Она всегда должна быть наготове.
А за приютом, прямо на перекрестке
Симпатичная медсестра продает маки для петлиц.
Ей кажется, что она в пьесе,
А ведь и вправду…
А вот парикмахер бреет клиента,
И тут же банкир ждет своей очереди постричься.
Вбегает пожарный, чтобы укрыться от проливного дождя
Пол Маккартни, Penny Lane
Объективисты сосредотачивались не на внутреннем мире, а на вполне обыденных предметах мира внешнего, с точно расставленными при этом экзистенциальными акцентами, но без лишних эмоций и личных оценок. Доступным языком. В духе подачи информации, как в теленовостях: дикторская подводка, картинка на экране с текстом за кадром, возможен журналист на выезде, поясняющий с места события, что же произошло — и переход к другой новости.
Без драматизации. Несколько отстранённо, с соблюдением хронометража и поставленной дикцией, о какой бы при этом трагедии ни шла речь («Один старый человек вез дрова, / найденные на месте дома, который снесли. / Это не запрещалось. И было холодно. / Командир эсэсовцев увидел его / и спросил, откуда дрова. / И старик ответил: из того дома, который снесли. / Начальник достал пистолет, / приставил дуло старику к горлу / и выстрелил»). И уже на другом материале, в иной исторической эпохе, но владея схожим поэтическим инструментарием, рэппер Эминем выстраивает композицию — на скрытом нерве и шокирующую своим внутренним напряжением:
Пойми, я хочу сохранить тебя как фана,
Но не хочу, чтобы ты в какое-то дерьмо вляпался.
Я тут видел в новостях на днях,
Что какой-то чувак нажрался и съехал в машине с моста в воду,
А подруга его, беременная его ребенком, была заперта в багажнике.
И рядом с ней нашли скотч, но кто они такие, в новостях не сказали.
Постой-ка… да это ведь был ты…
Черт…
Эминем, Stan
Либо описательно-безучастный поначалу текст, фрейдистскую основу которого Александр Кан подробно разбирает в своей книге:
Киллер проснулся перед рассветом,
Натянул сапоги
И лицо взял себе из древней галереи.
Он пошел по коридору
И вошел в комнату, где жила его сестра.
Навестил своего брата
И пошел дальше по коридору.
Подошел к двери, заглянул в нее:
«Отец?» — «Да, сын» — «Я хочу убить тебя»
«Мать? Я хочу трахнуть тебя».
Джим Моррисон, The End
Кроме огромного объема информации, имен, цитат, сносок, исторических и культурных параллелей, авторских размышлений в «Главных песнях ХХ века», да еще и возможности мультимедийно провести время (я находил песню в интернете, прослушивая ее многократно, пока не останавливался глазами на последней строчке в соответствующей главе), читатель получает ряд поэтических подборок, к которым эпитет «песенных» мало что добавляет по сути.
Передвигаясь от одной главы к другой, мы приобретаем необычный опыт. И в то же время приходим к пониманию, что оказались внутри некоей пестрой панорамы, ландшафт которой состоит из застывших в разных временах, как насекомые в янтаре, поэтик, при этом место их обитания — не поэтические сборники и антологии, а «синглы» и LP, «винил» и нынешние цифровые звуконосители. Вы открываете страницу в книге, словно находите порядковый номер песни в альбоме, и слышите:
Быть может, над нами и есть Бог,
Но все, чему научила меня любовь:
Обидь того, кто обидел тебя.
И крик, который ты слышишь в ночи, —
Не крик того, кто увидел свет.
Это холодная, изломанная Аллилуйя
Леонард Коэн, Hallelujah
Таким образом, книга Кана — это не только песенный, но и литературный травелог, нередко связанный, кроме непосредственно песенных текстов, с типичными историями влияния литературы на сочинение песенного текста. Как в случае с Мик Джаггером (манифест-исповедь Sympathy for the Devil, открывавшей альбом Rolling Stones Beggars Banquet, 1968 года) и шедевром Михаила Булгакова: «… вдохновленный булгаковским „Мастером и Маргаритой“, — описывает Кан очередную главу в книге, — Мик Джаггер создал манифест дьявольщины и песню-предупреждение».
- «Как интимный разговор Леонарда Коэна с Богом постепенно терял религиозное содержание и превратился в универсальный общечеловеческий гимн»
- «Как Джимми Пейдж и Роберт Плант создавали „Stairway to Heaven“, что стоит за ее смыслом, как они отбивались от обвинений в плагиате и почему так по-разному относятся к самой популярной песне своей группы»
- «Как странная песня авангардной художницы Лори Андерсон стала символом нового синтеза между поп-музыкой и „серьезным“ искусством и поставила острые вопросы о взаимодействии человека, технологии и природы»
- «Как космическая тема вывела молодого Дэвида Боуи на орбиту мировой славы, посеяла зерно всего движения „новых романтиков“, прошла с ним через всю жизнь и как его „космическая“ песня в конце концов улетела в космос»
- «Как благодаря скандально вызывающей откровенности Сержа Гейнсбура и Джейн Биркин секс вошел в мейнстрим популярной культуры»
- «Как школьные фрустрации Роджера Уотерса, неожиданный детский хор и нелюбимое группой диско породили самый популярный сингл Pink Floyd»
И так далее. В стиле мини-введения к каждому из песенных шедевров ХХ века. Любопытно, что в книгу, по волевому решению автора, не вошла ни одна песня, написанная по-русски и исполненная русским музыкантом или русской группой. Как объясняет Александр Кан: «…за пределами книги осталось всё зачастую великолепное наследие отечественной песенной культуры. Русская песня — огромное и невероятно значимое для русской культуры явление, достойное отдельной книги, в которой будет рассказано о лучших или, пользуясь принятой здесь терминологией, „главных“ ее образцах».
Если такая книга будет написана, чего очень бы хотелось, не сомневаюсь, что аналогии между современной поэзией и песенными текстами в русской не только рок-, но и в лучших образцах поп-культуры, можно будет провести без труда. И здесь, надеюсь, предстоит еще отметить влияние не только поэтов Серебряного века, но и обэриутов, и метареалистов, и уже совсем не песенных, казалось бы, поэтов-лианозовцев и концептуалистов.
Но все это — впереди. Пока же у русского читателя появилась уникальная возможность узнать об англоязычной песне в контексте мировой культуры массу исторического, интересного, интеллектуально насыщенного, интертекстуального, ибо сравнительный анализ и взаимовлияние внутри и вовне песенного творчества — неустанная авторская забота на всем протяжении книги. И с тем, что «Главные песни» сегодня заняли особое место не только в музыковедении, но и в литературоведении — с этим нас, читателей и меломанов, хочется от всей души поздравить!
Когда мы добрались до Вудстока,
Нас стало уже полмиллиона.
Повсюду звучали песни и радость
И мне приснилось, что я вижу бомбардировщики,
Пронзающие пушками небо.
Но прямо над головами нашего народа
Они превращались в бабочек
Мы звездная пыль,
Сплав миллиардов лет.
Мы злато,
Пойманное в дьявольской сделке.
Но нам нужно вернуться в сад
Джони Митчелл, Woodstock